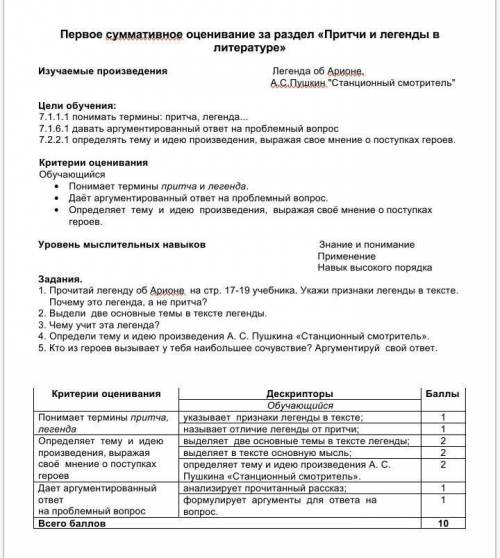
1)Чацкий 2)Фамусовсое общество
ОТНОШЕНИЕ К БОГАТСТВУ,ЧИНАМ,КАРЬЕРЕ:
1)"Чины людьми даются,а люди могут обнануться."
Сперва насмешливо,а затем гневно протестует против господствующих в обществе равов,которые требуют рабской покорности,лицемерия и при
2)Фамусов:"При мне служащие чужие очень редки;
Все больше сестрины,свояченицы,детки...
Будь плохенький,да если наберется
душь тысячки две родовых,-
Том и жених."
Молчалин:"ведь надобно ж зависеть от других. ...В чинах мы небольших"
ОТНОШЕНИЕ К СЛУЖБЕ:
1)"Служить бы рад,прислуживаться тошно..."
"Когда в делах- я от веселий прячусь,
Когда дурачиться-дурачусь,
А смешивать два этих ремесла
Есть тьма искусников,я не из их числа"
2)Фамусов:"...Обычай мой такой:
Подписано,так с плеч долой."
Молчалин:"Ну,право,что бы вам в Москве у насслужить?
И награжденья брать и весело пожить?"
ОТНОШЕНИЕ К КРЕПОСТНОМУ ПРАВУ:
1)Фамусов о Чацком(с ужасом)
"Опасный человек!Он вольность хочет проповедать!Да он властей не признает!"
Называет крепостников-помещиков "знатными негодяями",одни из которых "на крепостной балет согнал на многих фурах от матерей,отцов отторженных детей",которые затем были все "распроданы по одиночке".Мечтает избавить русский народ от рабства.
2)Хлестакова:"От скуки я взяла с собой
Арапку-девку да собачку,-
Вели их накормить,ужо,дружочек мой.
...От ужина сошли подачку"
В этом обществе человек и собака имеют одинаковую ценность: помещик меняет крепостных, которые "не раз и жизнь и честь его ",на трех борзых собак.
ОТНОШЕНИЕ К ОБРАЗОВАНИЮ:
1)Хорошо образован.
фамусов о Чацком
"...он малый с головой,и славно пишет,переводи"
2)Хлестакова:"И впрямь с ума сойдешь от этих,от одних
От пансионов,школ,лицеев..."
Скалозуб:"...Ученостью меня не обморочишь..."
Фамусов:"...Ученье- вот чума,ученость- вот причина,
Что нынче пуще,чем когда,
Безумных развелось людей,и дел,и мнений"
КАК ГЕРОИ ПОНИМАЮТ УМ:
1)"Есть люди важные,слыли за дураков...
... но призваны всем светом,
Особенно в последние года,
Что стали умны,хоть куда..."
(Предполагают,что эти строки посящены Александру 1)
Ум в понимание Чацкого- это просвещение,передовые взгляды,стремление искать блага не для себя,а для Отчизны.Для Фамусова- это ум бунтовщика,"карбонария".Вот почему в его восприятии ум Чацкого- это безумие(в их мире на гонения обречены всякая независимая мысль,всякое искреннее чувство).
2)Софья(о Чацком)
"Ум эдакий ли ум семейство осчастливит..."
ум в фамусовском обществе- это умение сделать карьеру,добиться чина,жить богато,жениться выгодно-"дойти до степеней известных".Это практический,житейский,изворотливый ум.
Фамусов-говорящая фамилия в переводе с франц. языка означает "всем знакомый,преловуто известный",символ устойчивости и благополучия материальной основы бытия
Всесторонний анализ „Капитанской Дочки“ и выяснение ее значения в творческой эволюции Пушкина невозможны без полного учета взаимоотношений романа с романами В. Скотта. Эти взаимоотношения являются одной из существеннейших сторон в сложении „Капитанской Дочки“, этой — по прекрасному выражению П. А. Катенина — „родной сестры «Евгения Онегина»“. Как последний, являясь „энциклопедией русской жизни“, в то же время кровно связан с байроновской стихией, так и „Капитанская Дочка“, будучи типически русским романом, возникшим на основе знания русской жизни и представляющим органическое завершение пушкинской прозы, включает тем не менее в себя бесспорный и важный комплекс связей с В. Скоттом. Однако, несмотря на их неоспоримость, ни полного анализа этих связей и их границ, ни выяснения их смысла до сих пор мы не имеем.
Несмотря на то, что русская литературная наука в вопросе об отношении Пушкина с В. Скоттом почти всегда оперировала преимущественно материалами „Капитанской Дочки“, буржуазные, а иногда и некоторые советские исследователи, сплошь и рядом, только запутывали, а порой и компрометировали важную тему.
„Капитанская Дочка“ — последнее звено длительного и упорного процесса, условно могущего быть названным вальтер-скоттовским периодом Пушкина.
Еще Белинский назвал Савельича — „русским Калебом“; А. Д. Галахов указал: „у Пушкина в конце «Капитанской Дочки», именно в сцене свидания Марии Ивановны с императрицей Екатериной II, есть тоже подражание... Дочь капитана Миронова поставлена в одинаковое положение с героиней «Эдинбургской Темницы»“.1
Н. Г. Чернышевский, хорошо знавший Скотта, категорически, но попутно указал, что повесть прямо возникла „из романов Вальтера Скотта“.
166
Славянофильскому лагерю замечание показалось посягающим на славу Пушкина. Идеолог русского самодержавия Черняев в панегирике „Капитанской Дочке“ утверждал ее исконно-русское величие путем полнейшего игнорирования западных связей. Мнение его единственной о романе монографии сказалось и на последующих работах. Черняев считал, что замечание Чернышевского „по своей бездоказательности не заслуживает разбора“, и пришел к своему тенденциозному выводу — „Нет ни одной мелочи, которая отзывалась бы подражанием В. Скотту. Зато весь роман свидетельствует о том, что Пушкин, наведенный В. Скоттом на мысль воссоздать в художественных образах и картинах нашу старину, шел совершенно самостоятельно“.1 А. И. Кирпичников2 и А. Н. Пыпин3 вернулись к мнению Чернышевского, но не развили его, как и Алексей Н. Веселовский4 и В. В. Сиповский.5 Наконец, М. Гофман в своей статье о „Капитанской Дочке“ 1910 г. писал: „В. Скотт дал толчок новым силам Пушкина, до тех пор дремавшим в нем“. Если старая формула Галахова: Пушкин подражал в „Капитанской Дочке“ В. Скотту — у Черняева преобразовалась:продолжал В. Скотта, то Гофман лишь затуманил ее: Пушкин отталкивался от В. Скотта. Дело здесь, разумеется, не в одном терминологическом различии. Только выяснением роли В. Скотта для пушкинского творчества на всем его протяжении, полным изучением творчества В. Скотта-прозаика и прозаика-Пушкина, регистрацией и осмыслением всех точек соприкосновения можно подойти к ответам на вопросы о функции его для Пушкина.
Мне приходилось уже останавливаться во „Временнике“ на мнениях некоторых советских исследователей, пошедших путем изолированных сопоставлений и несостоятельно сводивших живую ткань пушкинского романа к механическому усвоению формальных схем и к технике вальтер-скоттовского романа.6 Из-за этих достаточно общих мелочей они не видят подлинно значительных связей, касающихся существа сравниваемых романов, большого их сходства и великой разницы в точках зрения авторов по основным вопросам проблемного характера.