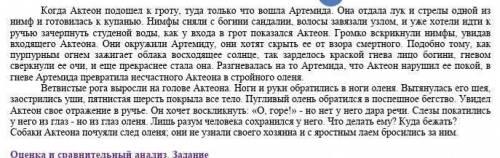
Хлестаков в пьесе «Ревизор» показан как человек, в котором соединились все пороки. Автор не зря наделил его фамилией Хлестаков. Хлестаковщина – безответственность, легкомыслие, обман, глупость, - все объединилось в одном человеке.
Вот как описывает его Гоголь «…молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, - один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими…»
Беспардонная наглость Хлестакова особенно проявляется после того, как он понял, что его приняли за ревизора.
Например,
1. Когда Ляпкин-Тяпки как бы случайно уронил деньги, а Хлестаков просит дать ему их взаймы.
2. Он одалживает деньги у Шпекина, Луки Лукича, и те с радостью дают ему «взятку», думая, что Хлестаков не будет ничего проверять у них.
3. И даже когда Земляника Артемий не собирался давать ему взятку, Хлестаков сам напрашивается, прося у него о долге.
4. У Бобчинского и Добчинского нет денег, но Хлестаков отрывисто требует у них без всяких церемоний тысячу рублей. И когда у тех не оказывается ничего, то «ревизор» согласен и на меньшее «Да, ну если тысячи нет, так рублей сто».
5. Признание в любви одновременно матери и дочери.
Другому человеку было бы очень стыдно на месте Хлестакова, но не ему. Он настолько легкомыслен, что даже не задумывался о последствиях. Он сумел обвести вокруг пальца самых важных людей в городе.
Беспардонная наглость Хлестакова дорого обошлась тем, с кем он общался. Кто-то пострадал морально, а кто-то финансово.
Объяснение:
Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Смотрите, добрые люди: одурел старый! совсем спятил с ума! — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. Вот еще что выдумал! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего, — и придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных монистах, прибиравшие комнаты. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы: венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу Бульбы всякими путями через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время, приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не в обычае было позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Под их отдаленною властью гетманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Кроме рейстровых казаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочекомонных. И слова эти были как искры, падающие на сухое дерево.