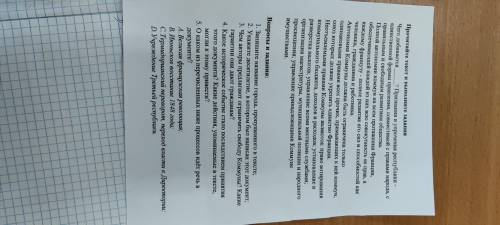
При Петре начала издаваться и первая русская газета: «Русские Ведомости».
Особое внимание обратил император на устройство школ. В 1701 г. в Москве учреждена была «Школа математических и навигацких наук» (в 1715 г. она была перенесена в Петербург и преобразована в Морскую академию). В тон же 1701 году была преобразована Московская академия; с 1700 года начали открываться «епархиальные» школы. В 1703 г. в Москве открыта была школа пастора Глюка с самой широкой программой, охватившей чуть не все науки, – впрочем, с преобладанием наук гуманитарного характера. Она существовала недолго, до 1706 г. В Новгороде в 1706 г. была устроена «Славяно-греческая школа», которая давала не только духовное, но и светское образование; из этой школы возникло до 15 таких же; в 1714 г. постановлено было учреждать в городах школы «цыфирные», чисто светские, которые в 1723 г. слились с епархиальными «архиерейскими». «Славяно-греко-латинская академия» о «Школа математических наук» сделались исходными пунктами целой сети низших школ.
Создание этой первой в России сети духовных и светских школ и было тем огромным шагом вперед, который делает из петровского царствования эпоху в истории русского образования. Обе академии поставляли в провинцию учителей. К концу царствования Петра в провинции светских «цыфирных» школ было до 50, а «духовных» архиерейских – до 46.
Посещение светских школ было для русских людей тяжелой повинностью, так как характер нового просвещения был слишком чужд для русской провинции, приученной к образованию церковному. Вот почему все заботы Петра о насильно вводимом просвещении, надо сознаться, принесли, на первых порах, больше смуты, чем пользы. Гораздо плодотворнее была массовая посылка за границу русских людей: из них многие вышли людьми с ясным сознанием, с определенными идеалами, – они-то и были настоящими воспитателями и учителями русской молодежи XVIII века.
Страсть к «раритетам» (редкостям) привела Петра к устройству в России естественноисторического и анатомического музея; интерес к книгам привел к учреждению первой публичной библиотеки. Кроме того, Петр много усилий приложил к развитию переводческого и типографского дела. Первые русские типографии были открыты за границей (в 1700 г. Тессинга и Копиевского в Амстердаме). Затем число их стало быстро расти и в России. Благодаря этим типографиям, появились на русском языке напечатанные гражданским шрифтом политические и исторические сочинения Пуфендорфа, Гуго Гроция, Барония, Липсия и др.
Художественные богатства Западной Европы нравились Петру не менее фабрик и верфей, – он охотно посещал картинные галереи, покупал за границей произведения искусств. В выборе картин особенно сказались его «голландские» вкусы, – благодаря этому в картинной галерее Эрмитажа так хорошо представлена «фламандская школа» живописи.
Не щадил денег Петр и на художественные архитектурные постройки. «Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству чрез искусства и науки» – вот, о чем он мечтал.
Заботы Петра о русском театре совершенно отвечали этой программе, т. к. театр облагораживает общество, возвышая его эстетические потребности. При Петре был выстроен первый общественный театр, в Москве в 1702 г., – при царе Алексее это была исключительно царская и придворная потеха, недоступная народу. Немецкая труппа Кунста, а с 1703 г. Фирста, составленная отчасти из немцев, отчасти из их русских учеников, с успехом давала пьесы в этой «комедийной хоромине». Репертуар Кунста и Фирста был очень разнообразен – они играла немецкие комедии, драмы и оперы, оригинальные и переводные, представляли и пьесы, сочиненные на «случаи» (на победу, на приезд царя и т. д.). В 1707 г. театр этот перестал существовать, и все «убранство» его перешло в Преображенский театр царевны Натальи, а затем в театр царицы Прасковьи, – тоже любительницы театральных зрелищ.
В Москве после Фирста театральное дело перешло в руки учеников хирургической школы и студентов Московской академии. В Петербурге театр был устроен царевной Натальей; посещение его было общедоступно и бесплатно; в 1723 г. существовал немецкий театр Манна и простонародный театр, на котором, во время Масляной, служители царских конюшен разыгрывали балаганные фарсы.
Кроме театра позаботился Петр и о других публичных развлечениях. Как ни грубы были его «ассамблеи», маскарады, шутовские свадьбы, – все-таки они значительно приблизили нас к Европе, тогда в забавах своих тоже не особенно разборчивой.
Таковы, вкратце, результаты забот Петра о просвещении и развитии ума и чувства своих подданных.
Между 73 и 71 годами до н. э. группа беглых рабов — первоначально небольшая, примерно из 78 беглых гладиаторов — переросла в сообщество из более чем 120 тыс.[4] мужчин, женщин и детей, относительно безнаказанно перемещавшихся по Италии под руководством нескольких лидеров, в том числе знаменитого гладиатора Спартака. Бое взрослые мужчины из этой группы составляли удивительно эффективный вооружённый отряд, который неоднократно показывал, что может противостоять римской военной мощи, как в виде местных патрулей и милиции, так и в виде подготовленных римских легионов под консульским командованием. Плутарх описывал действия рабов как попытку сбежать от своих хозяев и уйти через Галлию, в то время как Аппиан и Флор изображали восстание как гражданскую войну, в которой рабы вели кампанию по захвату самого Рима.
Растущая тревога Римского сената по поводу продолжения военных успехов армии Спартака, а также грабежи в римских городах и сельской местности в конечном итоге привели к тому, что республика пустила в ход армию из восьми легионов под жёстким, но эффективным руководством Марка Лициния Красса. Война закончилась в 71 году до н. э., когда армия Спартака, отступая после долгих и кровопролитных боёв перед легионами Красса, Помпея и Лукулла, была полностью уничтожена, оказав при этом ожесточённое сопротивление.
Третье восстание рабов имело важное значение для последующей истории Древнего Рима, в основном в его влиянии на карьеру Помпея и Красса. Два военачальника использовали успехи в подавлении восстания в своей дальнейшей политической карьере, употребляя общественное признание и угрозу своих легионов с целью повлиять на консульские выборы 70 года до н. э. в свою пользу. Их действия в значительной мере подрыву римских политических институтов и в конечном итоге превращению Римской республики в Римскую империю